Вера - уверенность в бытии Бога и духовного мира, а также в исполнении Божественных обетований.

" И загадка останется вечной
Не помогут ученые лбы.
Если знаем - ничтожно слабы.
Если верим - сильны бесконечно "
Христос Воскресе! |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » Христос Воскресе! » Основы православия » Вера.
Вера - уверенность в бытии Бога и духовного мира, а также в исполнении Божественных обетований.

" И загадка останется вечной
Не помогут ученые лбы.
Если знаем - ничтожно слабы.
Если верим - сильны бесконечно "
"Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте.!" (Иоан.14:1)

Без веры.... невозможно угодити Богу... (Евр 11,6); ....иже не имет веры, осужден будет (Мк 16,16)
Вера начинается в уме, хотя принадлежит сердцу. (Филарет Московский)
Несчастен тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдою. (И. Брянчанинов) Потому что ему не нужен Христос.
Вера,— говорит святой Кирилл Иерусалимский,— есть око, озаряющее всякую совесть; она сообщает человеку ведение. Ибо,— говорит пророк,— аще не уверите, не имате разумети (Ис. 7, 9) (Огласительное поучение, 5). Святой Кирилл объясняет необходимость веры еще таким образом: Не только у нас, которые носим имя Христово, за великое почитается вера, но и все то, что совершается в мире дамсе людьми чуждыми Церкви, совершается верою. На вере утверждается земледелие: ибо кто не верит тому, что соберет произрастшие плоды, тот не станет сносить трудов. Верою водятся мореплаватели, когда, вверив судьбу свою малому древу, непостоянное стремление волн предпочитают твердейшей стихии, земле, предают самих себя неизвестным надеждам и имеют при себе только веру, которая для них надежнее всякого якоря (Огласительное поучение, 5)
Без веры.... невозможно угодити Богу... (Евр 11,6); ....иже не имет веры, осужден будет (Мк 16,16)



Не поверил ученик Христа Фома, когда сказали ему другие ученики, что они видели воскресшего учителя: «если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (Ин.20, 25). Иисус говорит недоверчивому ученику: «Подай перст твой сюда и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим». Фома сказал Ему в ответ: «Господь Мой и Бог Мой!». Иисус говорит ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие» (Ин.20; 27-29). И конечно, то же самое вот уже веками повторяет человечество. Разве не на этом: «увижу», «прикоснусь», «проверю» — основана вся наука, все знание? Разве не на этом строят люди все свои теории и идеологии?

Но подобная вера ничего не меняет внутри самого человека. Мы знаем, что и «бесы веруют и трепещут» (Иак.2;19). Святитель Филарет, митрополит Московский, так комментирует разбираемое нами евангельское чтение: «Господь не одобряет в верующих искания очевидных, удостоверяющих знамений, но приписывает особое достоинство вере, которая их не требует». Здесь мы говорим с вами о вере освящающей, преображающей и спасающей душу человека, вере, которая не зависит от восторга телесных чувств. «Нет никакой пользы видеть Господа телесными очами, когда слеп ум, когда вера – эта сила духовного зрения – не действует. Напротив, когда действует вера, отверзаются Небеса, становится зримым Сын одесную Отца, везде сущий по Божеству и все исполняющий, неизреченный» (святитель Игнатий Брянчанинов). "Да не смущается сердце ваше, веруйте!"
Воистину «блаженны не видевшие и уверовавшие». Господь обещает блаженство тем, которые уверуют не видя. Блаженная вера Христова – это вера, основанная не на том, чтобы посмотреть, потрогать, понюхать и затем обсудить, это состояние внутреннего единения с Богом, единения любви. Апостол Павел учит: «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» (1Кор.12;3). Дух Святой невидимым образом по закону подобия соединяется с духом человеческим и утверждает его в христианской жизни. «Царство Божие внутри нас есть» (Лк.17;21). «И оно не придет видимым образом» (Лк.17;20). Поэтому «верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом» (1Ин.5;10).

Первоверховный апостол Павел: «Вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр.11;1). То есть уверенность в невидимом — как бы в видимом, в желаемом и ожидаемом — как в настоящем. (свт. Филарет Московский)
Блаж. Феофилакт Болгарский так кратко поясняет: апостол описывает нам веру, говоря, что она есть осуществление того, чего еще нет, и обоснование того, что еще не наступило. Например, воскресение еще не наступило, но вера утверждает это и ставит перед нашими глазами, т.е. вера - внутреннее согласие с ожидаемым Церковью и устремленность к этому.
Мы уверены в невидимом Боге, который действует в сердце человека.«Бог есть Дух: и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине»(Ин.4;24). Потому вера – понятие прежде всего духовное. Как сказал бы Иммануил Кант,- имманентное, или трансцендентальное, то есть то, что выходит за рамки человеческой логики. По сути, веру невозможно определить, как невозможно поставить пределы понятию любви, смирения и милосердия, поскольку эти понятия иррациональны. Вера – это образ жизни, менталитет души, то, что формирует образ мыслей, отношение к окружающему миру и самому себе. Доказать веру можно только опосредованно, тем как она проявляется в мире вещей. Самым убедительным свидетельством истинности веры является изменение человека в сторону исполнения христианских заповедей. Из церковной истории мы знаем, как вера преобразовывала простых рыбаков в духоносных проповедников, а потом и в мужественных исповедников, из блудниц делала великих святых, из колдунов – христианских мучеников. Такая удивительная метаморфоза объясняется внутренним изменением души человека, когда христианин согласен жертвовать земным благополучием, здоровьем и жизнью ради любви к Иисусу Христу. Наши мартирологи насыщены подобными примерами. В них представлены образчики христианской веры, воплотившие ее идеалы с максимальной полнотой. Христианские мученики проявили духовную сущность веры в этом мире. Обналичили ее в земной жизни, отразили ноумен в феномене.

Бог, который может разделить море и остановить солнце, ищет, прежде всего, сокрушенного покаянием и запечатленного верою человеческого сердца, а не эффектного и временного изменения «чина естества». Сам Господь наш Иисус Христос во время многочисленных исцелений болезней, ждал от человека в начале проявления его веры и тогда, в случае отсутствия этой веры, часто не совершал никакого действия, либо чудом исцеления возбуждал веру, указывая на Себя, как на истинного Мессию. Здесь целью Божественного «альтруизма» была, прежде всего, душа человека. В конечном итоге, все исцеленные и воскрешенные через какое-то время снова заболевали, а затем и умирали, потому и чудо имело больше миссионерский характер, чем филантропический. Здесь «точкой приложения» является вера – решающий фактор в соработничестве души с Богом. Потому вера – это не постороннее наблюдение за Божественным действием, а живое, непосредственное участие в нём. Отсюда становится ясно, что магическим и чудесным образом над душою не может производиться ни одно спасительное действие. Только разумное и свободное движение верующего человеческого сердца воспринимает Бог.
Что удивляет и поражает наше восприятие при чтении Евангелия? Обилие невероятных благодеяний, совершенных Христом народу еврейскому и, в то же время, невероятная жестокость и злоба того же народа к своему Благодетелю. Даже среди апостолов, непосредственных свидетелей Божественных чудес, оказался предатель. В буквальном смысле единицы смогли возвыситься умом над земным желанием получать от долгожданного Мессии только «хлеба и зрелищ». Из ветхозаветной церковной истории мы знаем, что каких только ни совершал пророк Моисей чудес силой Господней, народ еврейский так и остался жестоковыйным Израилем, не познавшим Бога. Святитель Григорий Нисский пишет о жизни ветхозаветного Законодателя: «Бога невозможно познать телесными чувствами, равно как и путем обычных размышлений. Только тогда, когда человек очистит свой разум от всех представлений, основанных лишь на чувственном восприятии, удалится от привычной связи со своей сожительницей, то есть с чувственностью, которая в определенном смысле сочетается и сожительствует с нашей природой, и когда освободится от нее, тогда, наконец, он дерзает приступить к горе Синаю».
Преподобный Никодим Святогорец в знаменитой «Невидимой брани» по поводу чувственной веры пишет: «Когда человечество умом своим ниспало из мира духовного в мир чувственный, тогда внешние чувства стали играть в его жизни роль первостепенную, руководствуясь к достижению той извращенной цели, которую поставила перед собой поврежденная природа, изменившая направление своей деятельности. Вместо блаженства внутри, рождающегося от общения с Богом, человеческая душа, обманувшись, стала искать блаженства во вне, через чувства, услаждаясь теми ощущениями, которые они могли ей доставить. Увлекшись чувственным и дав свободу чувствам, она тем самым умертвила себя, впустив смерть в дом свой сквозь окна свои (Иер.9;21), то есть сквозь чувства, которые, по определению отцов, суть окна души» (Гл.21,с.85). Смерть поселилась в душе вслед за грехом, который в свою очередь посеялся на почве похотений, образовавшихся вследствие беспорядочных и безмерных удовлетворений чувственных пожеланий, родившихся от чувств и чувственных ощущений. Таким образом, суета чувственных впечатлений есть первопричина греха и характерное свойство падшей природы человека. Небесная арфа Духа Святого, псалмопевец Давид, обращаясь к Богу, говорит такие слова: «Отврати очи мои, еже не видети суеты» (Пс.118;37). Святые отцы большое внимание уделяли искушению, происходящему от зрения, поскольку физиологически глаза являются продолжением мозга, и впечатления зрительные намного опаснее других телесных чувств. «Рассматривание исключительно видимых предметов называется на святоотеческом языке созерцанием неестественным, противоестественным по причине того, что разум пребывает вне естества своего,- читаем у преподобного Исаака Сирина в «Словах подвижнических».- Оно именуется голым ведением, потому что исключает всякое попечение о Божественном, и по причине преобладания тела вносит в ум неразумное бессилие, и все попечение его совершенно о сем только мире» (Сл.26,с.125). Иерей Вадим Коржевский в книге «Пропедевтика аскетики» (Компендиум по православной святоотеческой психологии), комментируя евангельскую притчу о блудном сыне, пишет о чувственных силах падшей души: «Здесь разум, подобно блудному сыну, оставляет Отца своего – Бога, исходит, как из дома, из естества своего, и, расточив мысленное богатство свое в мире вещества, начинает пасти свиней, неразумное движение низших сил души, питаясь тем же, чем и они – чувственными удовольствиями».
Все блаженство христианской веры дается тем, чье сердце откликается на зов божественного Логоса. Ни чудесные явления, ни яркие впечатления от лицезрения каких-то таинственных событий не могут дать той силы, которую может дать Само воплотившееся Слово сошедшее с небес изменяющее внутренние состояние человека. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.1;1). О маловерных, желающих верить только глазами, святитель Игнатий говорит: «Уверовавшие по причине знамений составляли низший разряд верующих во Христа. Когда им предложено было духовное, возвышеннейшее всесвятое учение, тогда многие из них истолковали его по своим понятиям, не захотели спросить объяснения Божию слову у Бога, осудили слово, которое было Дух и жизнь, обличили этим свою поверхностную веру, свой поверхностный залог сердечный, и многие от учеников Его, видевших многие знамения, пошли вспять и больше не ходили с Ним».
Искаженные грехом телесные чувства падшего человека имеют подчиненное значение по отношению к слову, которое воздействует непосредственно на дух или ум человека. Поэтому и чудеса имеют опосредованное значение настолько, насколько они приведут к Слову Иисусу Христу. В евангельской притче о богаче и Лазаре ветхозаветный патриарх всех верующих людей Авраам на вопрос о чудесном воскресении праведника отвечает несчастному сребролюбцу: «Если Моисея и пророков не слушают, то, если бы кто из мертвых воскрес, не поверят» (Лк.16;31). Даже пришедший с того света человек не сможет утвердить в вере более, чем это сделает Слово Божие. Если есть Священное Писание, то не требуется более чудес, само Слово находит себе место в подчиняющейся благодати душе. «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим.10;17).
Преподобный Кассиан Римлянин утверждает: «Чудеса, вызывая удивление, мало способствуют христианской жизни». Как печально, что эти евангельские святоотеческие наставления о стяжании истинной блаженной веры Христовой, затмеваются обывательской погоней за эффектными чудесами. Святитель Григорий Палама в своих знаменитых триадах пишет, что «дух творит себе форму». Дух самообольщения чудесами найдет форму для самореализации. Ветхий человек, падкий на яркие впечатления, на сенсации, которыми заполнен наш земной мир, будет искать чудес вне зависимости от того, кто перед ним: колдун, экстрасенс или священник. Меняется только объект восторга, но не сам человек. Вечно смущенная, сомневающаяся, многобурная и многомятежная душа ищет и даже требует чудес. Потому и не иссякает поток падшего человечества к чудесам и чудотворцам мира сего. Главное, получить впечатление, вставить это событие в бегущую строку мировых сенсаций и бытовых событий. Постоянно находясь в самой гуще, пучине вздымающегося бурей впечатлений информационного моря, человек не имеет возможности опомниться, чтобы сверить свой жизненный курс с учением Церкви и святых отцов. Шквальный ветер перемен несет жизненный корабль такого человека на кипящие пеной рифы, как на верную погибель. Здесь нет места богомыслию, подобному тихой гавани земли обетованной, наоборот, все совершается быстро, бурно, экспрессивно: поиск чувственного восторга не оставляет ни секунды на остановку и размышление.
Собиратель святоотеческого предания Игнатий, епископ Кавказский, учит и наставляет нас различать истинную веру от ложной: «Богопознание, живая вера, благодатное смиренномудрие, чистая молитва – принадлежности духовного разума; они – составные части его. Так, напротив того, неведение Бога, неверие, слепота духа, гордость, самонадеянность и самомнение – принадлежности плотского мудрования. Оно, не зная Бога, не приемля и не понимая средств, предлагаемых Богом к получению Богопознания, составляет само для себя ошибочный, душепагубный способ к приобретению Богопознания, сообразно своему настроению: оно просит знамение с неба». Когда фарисеи и саддукеи, совопросники века сего, искушая Спасителя, просили показать знамение с неба, то получили лаконичный ответ: «Род лукавый и прелюбодейный знамения ищет, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка» (Мф.16;4). Господь оставил их и отошел в сторону.
Только неверующий человек нуждается в видимом доказательстве бытия Божия: «Знамение не для верующих, а для неверующих»(1Кор.14;22). Чувственные проявления потустороннего мира всегда происходили для некой духовной реанимации, с целью хоть как-то «растопить» окаменевшее бесчувствием сердце. Всегда были направлены на людей неверующих, на тех, для кого имели бы отрезвляющее действие. Непосредственно для язычников, как «жидкая пища» чтобы «проглотить лекарство», предлагалось чудо, но далее всегда следовало слово, которое и должно было просветить ум и сердце человека. Только «оживление души словом Божиим производит живую веру во Христа. Живая вера как бы видит Христа (Евр.11;27). Не нуждается она уже в знамениях, будучи всесовершенно удовлетворена знамениями Христовыми и величайшим из Его знаменией, венцем знамений, его словом» (Святитель Игнатий Брянчанинов). Видения и чудеса - это костыли для сомневающихся.

Каждый год в благословенную субботу на Гробе Господнем при огромном стечении народа совершается чудо схождения благодатного огня. Однако, мало кто откликается на призыв Христа. После нескольких часов впечатлений всё возвращается «на круги своя», мир не меняется в лучшую сторону. Главное чудо - это сама вера, а если что-то требует вещественных доказательств, то это уже не вера, а маловерие.
Сами чудеса имеют только эффект восторга, эффект чувственных переживаний. Ну что такое падшие чувства падшего человека? Это морская волна, которая с шумом ударяется о песок, оставляя на нем лишь пену. После таких эффектов и земных сенсаций человек не меняется. Проходит короткий промежуток времени, и все впечатления забываются; новые затмевают старые, и все возвращается в исходное положение. Святитель Игнатий в своей проповеди «о чудесах и знамениях» говорит: «Достойны сожаления оставляющие слово, ищущие убеждения от чудес. Этою потребностию обнаруживается особенное преобладание плотского мудрования, грубое невежество, жительство, принесенное в жертву тлению и греху, отсутствие упражнений в изучении Закона Божия и в Боголюбезных добродетелях, неспособность души сочувствовать Святому Духу, ощутить присутствие и действие Его в слове».
Возле различных таинственных и не объяснимых явлений в наше время собирается огромное количество людей, ищущих решения земных проблем. Кто-то хочет получить исцеление, кто-то наладить материальное благополучие или восстановить семейные отношения… Человек ничтоже сумняшеся думает, что он чудесным образом все получит. Здесь нет живой веры в Бога, нет любви и послушания Его благому Промыслу, нет даже стыда за свои просьбы. Есть потребительство и коммерческое отношение ко Творцу, торговля с Богом по поводу земных благ. Спрос рождает предложение, и ситуация возле чудес выглядит как некий бизнес-проект по реализации религиозных услуг населению, где порой святыни выступают в роли прикладного материала. Дальнейший путь такого духовного популизма будет развиваться по законам американского менеджмента,- рекламой и техсредствами (подсветка, звуковое оформление и т.д.), налаженная технология отработанная до мелочей. Верующие люди не могут участвовать в подобных пиар-акциях так, как это является возвращением во времена языческого магизма и духовного невежества. Такой нездоровый эпатаж никак не вяжется с нашей православной верой. Это путь в никуда.
Преподобный Макарий Великий обозначил цель христианской жизни как борьбу со страстями и в Церкви есть все необходимые средства для достижения ее. Церковь – это ковчег спасения человеческой души, которая находится в неоплатном долгу перед Богом за свои бесчисленные грехи. Господь пришел по сути на эту землю не показывать чудеса, а для того, чтобы преобразить нашу душу, восстановить падший образ, и устроил для этого Свою Церковь.

Самое великое чудо, которое совершается в этом мире каждый день, – Таинство Святой Евхаристии. Это то, что Бог оставил нам как залог Небесного Царства. Таким образом, поиск видимых чудес является унижением спасительных таинств Святой Церкви, которые уже, к сожалению, не вдохновляют современного обывателя. Ну что ты еще ищешь, безумный человек, куда торопишься? Сам Бог предлагает Себя в Трапезе Церковной. Самое великое чудо это то, что происходит с верующей душой после соединения в Святом Причастии с Телом и Кровью Христовой. Неужели этого мало? Правда, здесь нужны духовные труды, особое напряжение по возделыванию своего сердца. Необходимо принести покаяние, а затем и плоды покаяния, то есть изменение образа мыслей и образа жизни. Исполнение заповедей Божиих требует усилий: труда воздержания, молитвы и поста, понуждения себя на всякое доброе дело. Молитва соединяет ум с Богом и возносит душу в самое Небо. Преподобный Исаак Сирин на замечание ученика о том, что он видит ангелов, ответил: «Лучше тебе видеть грехи свои, как песок морской». Ни зрение ангелов, ни иных сил небесных, неполезно верующему человеку. Главным критерием полезности таинственных явлений всегда считалось раскрытие грехов человека. Из церковного предания мы знаем множество примеров, когда подвижники были искушаемы от дьявола через светящийся крест, благоухающие иконы, Иисусову молитву и даже, явлением «Христа». И это «неудивительно; потому что сам сатана принимает вид Ангела света»(2Кор.11;14). Святой Апостол Иоанн Богослов предупреждает: «Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они»(1Ин.4;1).
Одним из признаков последних времен будет умножение беззакония (Мф.24;12). Умножение как арифметическая операция, во много раз увеличивает значение двух чисел. Но, если доброе умножить на злое, то результат получим с отрицательным знаком. Поэтому, если какое-то с виду доброе событие помножить на тщеславие и обывательский интерес, то результат будет резко отрицательным во всех отношениях. Премудрый царь Соломон пишет в Притчах: «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти»(16;19). Преподобный Марк Подвижник говорит: «Те, которые не вменили себя должниками всякой заповеди Христовой, чтут закон Божий телесно, не разумея ни того, что говорят, ни того, на чем основываются, потому и мнят исполнить его делами». Всякие добрые дела не испытанные верой являют собой, по слову блаженного Августина, «блестящие пороки».

Святитель Филарет Дроздов:
Мало сказать, что "вера есть уверенность в невидимом". Этой уверенностью надо жить, чтобы ощущать ее как факт внутренней жизни.
Но откуда взять эту уверенность, если вся наша вера — это "только трость, колеблемая ветром". Чтобы быть устойчивой, реальной силой, она должна соединиться с верой других и в этом найти для себя дополнительную силу. Русские богатыри, по былинным сказаниям, чтобы набраться сил, припадали к матери-земле. Верующие люди, чтобы набраться силы веры, должны припадать к вере отцов. Каких отцов и только ли отцов? И разрешается ли этим вся тайна нашей веры? На эти вопросы митрополит Филарет отвечает в "Слове в неделю 24", на текст: "И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне?" (Лк.8:45).
По указанию проповедника, мы должны: "проникнуться верой Авеля, приносящего множайшую жертву Богу; стать проникнутыми верой Авраама, который принес Богу единородного сына. Авраам готов через кровь сына и даль времен коснуться ризы Спасителя силою своей веры в грядущее, как в настоящее. Должны проникнуться верой пророков, которые глазами своей веры смотрели на предрекаемые ими будущие события, как настоящие. Должны воспринять в себя всепобеждающую веру апостольскую, веру мучеников, победившую терпением целый мир их гонителей". Наша вера, таким образом, должна укрепиться верой отцов, напитаться ей и быть, по удачному выражению митрополита Филарета, "вселенской верой". В этом и заключается одна из тайн нашей веры.
Но мог ли человек придумать такую веру? Без помощи Божией здесь, как и везде, мы не можем творить ничего. Вот почему "Сам Небесный Учитель называет нашу веру Божиею". Так раскрывается вторая тайна нашей веры.
Господь Бог ведет диалог со всем Своим Творением, как глава Церкви, давая откровения атеистам или людям других вероисповеданий, и люди приходят потому к Богу не вопреки Богу, а благодаря Ему. Благодаря встрече с Господом.
Постигая все эти тайны веры всего лишь умозрительно, мы далеко не все еще постигаем. Это постижение тайн веры будет расти по мере роста в нас самой веры. Поэтому будем взывать ко Господу: "умножь в нас веру" (Лк.17:5). Вера усиливается молитвой. Молитвенная связь с Богом особенно сильна в Церкви, где соучаствует в нашей молитве весь духовный мир, вся "вселенная", т.е. небесная и земная Церковь. И где Господь соприкасается с нами не только краем ризы Своего благоволения но и всем Своим Существом — в тайне Св. Причащения. Такова третья и основная тайна нашей веры, по учению митрополита Филарета. Все эти тайны есть вместе и руководящие, движущие идеи нашей веры.

Различие между знанием и верой заключается в том, что знание имеет предметом видимое и постигаемое, а вера — невидимое и даже непостижимое. Знание основывается на опыте или исследовании предмета, а вера — на доверии к свидетельству истины. Знание принадлежит уму, хотя может действовать и на сердце; вера принадлежит преимущественно сердцу, хотя начинается в мыслях.
Вера начинается не с веры в Бога. Христа распяли те кто верили в Бога, те кто видели себя достойными всех благ земных и небесных, они видели себя праведными людьми.
Христос - Спаситель. Но когда можно назвать Его Спасителем, когда врач исцеляет от неизлечимой болезни. Тот Спаситель, кто спасает от того, в чем я вижу что я погибаю. Несчастен тот, кто удовлетворен собственной человеческой правдою. (И. Брянчянинов) Потому что ему не нужен Христос. И антихриста примут те "верующие", которых он прославит за их "святость" и "добродетели."
Человек не может сам собою возродить в себе веры даже на горчичное зерно; что вера не от нас, Божий бо есть дар; что вера, яко дар духовный, дается Духом Святым.
Что ж в таком случае делать? Как примирить потребность человека в вере с невозможностью возродиться в себе со стороны человека? В оном же Священном Писании открыто для сего средство и показаны примеры: «просите и дастся вам». Апостолы не могли сами собой возбудить в себе совершенства веры, но молили Иисуса Христа: «Господи, приложи нам веру». Вот пример снискания веры. Отсюда видно, что вера приобретается молитвою.
Для спасения души при истинной вере потребны и благие дела — добродетели, ибо «вера без дел мертва есть», яко от дел оправдается человек, а не от веры единыя, и аще хощеши внити в живот, соблюди заповеди: еже не уби — еши, не прелюбы сотвориши, не украдеши, не лжесвидетельствуеши, чти отца и матерь и возлюбиши искренняго, яко сам себе. И все сии заповеди потребно исполнять в совокупности. «Иже бо весь закон соблюдает, согрешит же в едином, бысть всем повинен». Так учит св. Апостол Иаков. Вера без дел гореть не может, без масла огонь погаснет в лампадах.
А св. Апостол Павел, представляя слабосилие человеческое, говорит, что «от дел закона не оправдится всяка плоть». «Вемы бо, яко закон духовен есть, аз же плотен есмь, продан под грех. Еже бо хотети прилежити ми, а еже содеяти доброе, не обретаю, но еже не хощу злое сие содеваю. Умом моим работаю закону Божию, плотию же закону греховному». Каким же образом исполнить потребные дела закона Божия, когда человек бессилен, не имеет возможности оправдать в себе заповеди? Не имеет возможности только до тех пор, пока не просит о том, пока о том не молится. «Не имате, зане не просите», представляет причину св. Апостол. Да и Сам Иисус Христос говорит: «без Мене не можете творити ничесоже». А как творить с Ним, сему учит так: «будете во Мне и Аз в вас». «Аще кто пребудет во Мне, плод мног сотворит». А быть в Нем значит непрестанно ощущать Его присутствие, непрестанно просить во имя Его: «Аще что просите во имя Мое, Аз сотворю». Итак, возможность исполнения добрых дел приобретается молитвою же! Вера оживляется молитвою.

Почему Бог не явит себя людям явственно и видимо, чтобы человек не только верил, но и знал? Так явственно, чтобы не было у человека больше сомнений? Человек жаждет чувственного уверования, чтобы Бог явил громкие чудеса и показал ад и Рай, но это был бы уже не выбор, человек бы знал что выбрать и этим был бы лишен, данной по милосердию и любви Божией, свободной воли выбора. Выбор Бога тогда был бы из-за страха или по расчету. "Боязнь муки есть путь раба, а желание награды в Царствии есть путь наемника. А Бог хочет, чтобы мы шли к Нему путем сыновним, то есть из любви и усердия к Нему." Бог же просит "Сыне, даждь Ми твое сердце" "Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со Мной" (Откр. 3,20) Бог не входит самовластно в святыню человеческой души, Он смиренно стоит у входа. Как пишет митрополит Антоний Сурожский, "не только человек верит в Бога, но и Бог верит в человека". Возможно, что это одно из глубоких определений человека: он есть творение Божие, которому верит Бог. Бог ждет от нас свободной, не вынужденной веры. Без свободы нет любви.
Спасение не даруется механически, как не зависящий от человека акт Творца. Это особое дело Божие, венец Божественного Творения и Божественной любви, которым Бог по благодати возводит тварное к подобию нетварного. Как писал свт. Иреней Лионский, человек соединившись со Христом и Духе делается вместе с Единородным Сыном Божьим - сыном Божьим единородным.
Да и сердце, увлеченное страстями и чувствами, имеет затуманенные духовные очи, и не способно узреть и видимо явленного Богом. "Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?" (Ин.14.8-9) Бог явил себя людям, послав своего Сына Единородного Иисуса Христа, но люди не признали Его и распяли.
Теперь мы видим как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше. (1Кор.13:12,13)
Может ли атеист доказать что Бога нет? Какие доказательства? их нет.... Получается что атеист не знает, а ВЕРИТ...верит, что Бога нет.
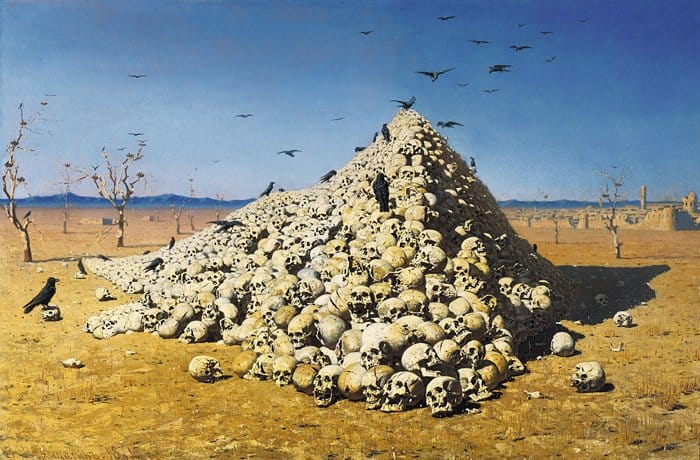
Если Бог есть, то почему войны, страдания, болезни и скорби? Разве это Богу угодно? А разве Богоугодны соры в семье? Оттуда же и контакты глобальные, только в большем масштабе. “Безрассудно ты поступил теперь. За то отныне будут у тебя войны” (2 Пар. 16:9)
Главное в духовной жизни вера в Промысл Божий и рассуждение с советом. (И.Крестьянкин)
Царство Божие силою берется. И только употребляющий усилие приобретает Его.
Вера - это древо, а плоды на этом древе, это добродетели.
Вера и наука.
Малое знание удаляет от Бога, большое знание приближает к Нему. (Ф.Бэкон)
Малое знание хуже незнания, т.к. удаляет от Бога, человек начинает полагать, что вот скоро он уже откроет все законы природы и что Бог ему уже не нужен, что и случилось в конце 19 начале 20 век, когда был бурный расцвет наук, тогда много интеллегенции ушло от веры и впало в оккультизм.
Знание приводит к Богу, полузнание удаляет от Него.
Чудо - само существование законов природы и человеческого разума, способного раскрыть их. Нам в принципе неизвестно, почему наши теории работают так хорошо. Это чудесный дар, которого мы не понимаем и не заслуживаем. ....или конечна Вселенная, или бесконечна - третьего нет. Третье - наше незнание. Вселенная в конечном счете есть то, что мы не ожидаем. (нобелевский лауреат физик Е.Вигнер)
Как небеса поведают славу Божию, так и человек, познавая мир, все лучше видит сияние Божества в Его творении. Но, обладая свободной волей, человек может противиться Богу, делать вид, что Его не видит. (свящ. Борис Левшенко)

Знаменитое заявление наших советских космонавтов о том, что Бога нет, потому что в космосе они Его не видели, является лучшим примером логики, с помощью которой неверующие оправдывают свое неверие. В ответ на это космонавт другой страны заметил, что также Его не видел, но видел следы Его присутствия.
При совершенно непредвзятом, т. е. нейтральном (как и должно быть в науке) отношении к изучаемым объектам, у исследователей совершенно непроизвольно возникает идея о Создателе и Промыслителе, Который придал миру упорядоченность, иерархичность и осмысленность, дал природе Свои законы, сотворил невообразимо сложные системы и непрерывно поддерживает их существование.
В естествознании, особенно в последнее время, накопилось множество фактов, не вписывающихся в привычные теории материализма. Факты молекулярной физики, генетики и биохимии полностью доказывают невозможность случайного самопроисхождения живых существ... Может ли обезьяна, шлепая по клавишам, случайно набрать «Войну и мир»?.. Ожидая случайного появления одной простейшей клетки даже в идеальных гипотетических условиях, мы надеемся на то, что обезьяне удастся 20 000 раз подряд и без единой ошибки набрать «Войну и мир»! Смешно рассчитывать на подобные события... Если мы взглянем на скульптуры Микеланджело, то с уверенностью скажем, что их создал человек, и притом талантливейший. Никому и в голову не придет, что такие произведения искусства случайно образуются сами в результате того, что каменные глыбы, срываясь с вершин гор и падая в пропасть, так чудно обтесываются. Отчего-то никто не рыскает по пропастям в поисках гениальных произведений искусства. Почему же мы, глядя на этот чудный и дивный мир, не утверждаем с уверенностью, что этот мир — прекраснейшее творение Высшего Разума!?
Еще в 1885 году наш знаменитый соотечественник Н. Я. Данилевский писал, что «теория эволюции не столько биологическое, сколько философское учение, купол на здании материализма, чем только и можно объяснить ее фантастический успех, научными достоинствами никак не объяснимый». Гипотеза Дарвина является абсолютной необходимостью атеизма, ведущего мнимую родословную всего живого от случайно зародившейся в мировом океане молекулы. Недаром отцы исторического материализма так любили Дарвина... Приведем одно из высказываний Дарвина, которое, может быть, охладит пыл современных эволюционистов. Хотя некоторые из них и утверждают, что слова эти написаны им в минуты отчаяния, вдохновенный тон автора свидетельствует за себя: «Невозможность признания, что великий и дивный мир с нами самими, как сознательными существами, возник случайно, мне кажется главным доказательством существования Бога!». Теория эволюции... останется в памяти поколений весьма занимательной и поучительной фантазией на тему: «как могла бы произойти жизнь на Земле без Творца, если бы это было возможно». Историей глубокомысленных рассуждений и правдоподобных доводов, невероятных откровений и скандальных сенсаций, — тщетных усилий мятущегося человеческого духа, пожелавшего обойтись без своего Создателя».
Единственная причина существования мироздания — в том, что Бог его создал, и единственная причина, по которой оно продолжает существовать — в том, что Бог поддерживает его существование. Мироздание подобно симфонии, картине или поэме — у него есть Автор «дивны дела Твои, Господи, и душа моя вполне сознает это».
Каков человек, такова и наука. Природа открывается не концепциям, а человеку. Обновление человеческой природы во Христе привело к новой науке, это не доказуемый факт, а свободное исповедание веры.
Дар знать мир и владеть им был благословением человеку от Бога (Быт.1,28; 2, 19-20), но был утрачен в грехопадении из-за отрыва от Бога. Во Христе связь с Богом восстанавливается. Поэтому должна в некоторой форме восстановиться и власть над природой, как внешней. так и внутренней. Должны обновиться и жизнь и знание. Это и совершилось, что видно по стремительному развитию наук и искусств в пост христианскую эпоху.
Президент РАН, академик Юрий Осипов:
"Создание любой стройной научной системы неизбежно приводит к мысли о существовании Абсолютного Бытия"
Первый зам. президента РАН, академик Владимир Фортов:
"Мир един и познаваем человеческим интеллектом потому и только потому, что существует Единый Бог, создавший Единым Промыслом и мир, и человека и именно поэтому существует единый объект исследования"
Действующий директор ЦЕРН, Карло Руббиа, нобелевская 1984 г.:
"И как наблюдатель за природой я не могу отклонить идею, что имеется более высокий порядок, существующий прежде вещей. Это предусматривает разум на более высоком уровне, вне существования Вселенной непосредственно"
Директор Института общей генетики имени Вавилова академик РАН Алтухов:
"Я пришел к выводу о существовании Творца еще и потому, что труды моих сотрудников и мои собственные работы показали, что не только происхождение человека, но даже и происхождение обычных биологических видов не может иметь случайный характер"
Иосиф Бродский, нобелевская премия 1997 г.:
"Есть мистика, есть вера, есть Господь,
Есть разница меж них и есть единство,
Одним вредит, других спасает плоть,
Неверье - слепота, но чаще - свинство"
Чем ответственнее и глубокомысленнее ученый исследователь, тем чаще он выговаривает слово "ignoramus" (не знаем) и тем честнее он добавляет к нему слово "ignorabimus" (не узнаем). Все последние основы положительной науки: естество материи, естество энергии, их взаимная связь, естество души, ее связь с телом, тайну жизни, тайну мысли, тайну любви, силу меры, разума и числа в мире, и в особенности сущность и власть духа, – все это мы можем исследовать без надежды исчерпывающе познать. И ото всего этого великие ученые поднимали свой взор к Богу и воздавали Ему хвалу за воспринятое ими величайшее чудо.
Именно это имеет в виду Карлейль, когда говорит, что "для мыслителя и пророка природа всегда останется сверхъестественной"; что "никакая химия... не может скрыть от нас того, что пламя есть чудо"; что "Божество говорит нашему уму в каждой звезде, в каждой былинке, если только мы откроем свои глаза и свою душу"; и что, наконец, "сам человек есть великая и неисповедимая тайна Божия" (Герои: 32, 34, 36, 45). "Век чудес прошел? Нет, век чудес существует постоянно" (там же, 189). Карлейль вослед за великими естествоиспытателями понимал, что самые "корни" природных сил и связей – мудры и необъяснимы. (А.И. Ильин "О чудесном и таинственном")
И.А. Ильин "О чудесном и таинственном"

Что есть религия? Кому бы мы ни задали этот вопрос, мы можем заранее быть уверены, что нам укажут, прежде всего, на сферу "чудесного" и "таинственного". Человек не удовлетворяется общеизвестным и общепонятным и хочет чего-то "большого"; этого "большого" он и ждет от религии.
Почему человек обращается к религии?
1. Из любопытства.
2. Из любознательности.
3. Из-за страха
4. Из-за желания исцеления или успеха, власти.
1.
Для любопытного привлекательна "всякая новость": он воспринимает все поверхностно и поэтому ему все скоро надоедает. Но и для "нового" у него нет ни взора, ни глубины; оно "выдыхается" для него так же скоро, как и старое. Он желает "наслаждаться" жизнью, а наслаждение его мелко и кратковременно: он как ребенок рвет цветы без смысла и тотчас же бросает их. Отсюда его главная потребность: все вновь и вновь переступать порог, отделяющий известное от неизвестного; искать "острого", "пряного", манящего и беспокоящего. Он жизненный "сноб" безответственный собиратель поверхностных сведений. И самое обращение его к религии создает вокруг нее атмосферу пошлости, кокетства, соблазна, а нередко и сущей нечистоты.
2.
Другие обращаются к религии из любознательности. Их "интересуют" теоретические вопросы, связанные с "чудом", с "тайной" и со всем "потусторонним". Они хотят "исследовать, в чем тут дело, есть ли здесь что-нибудь "реальное" – или же одни "иллюзии" и "фантазии". Они обнаруживают нередко серьезность, добросовестность и основательность в изучении. Они готовы беспристрастно наблюдать, экспериментировать и протоколировать. Но они чаще всего вступают в эту область с неверным, неподходящим актом восприятия. Они пытаются исследовать ее приемами математически-механического естествознания, которые скоро иссякают и оказываются неудовлетворительными. Эти приемы улавливают только внешне-чувственный состав исследуемых явлений, который отнюдь не составляет самого существа "чудесно-таинственной" сферы, но лишь ее поверхностный, "материализованный" слой. Уже для психического состава всей этой области у таких исследователей не находится ни верного акта, ни испытанных, успешных приемов, а одни догадки и гипотезы. Что же касается самого существенного, духовного состава этой сферы, заключающего в себе весь ее смысл и дающего ключ к ее разумению, то он ускользает обычно от эмпирических исследователей – целиком или почти целиком. Духовное можно исследовать и понимать только духом; всякая попытка уразуметь его помимо духовного акта – неизбежно сведет его к психологическим банальностям и почти ничего не выражающим констатированиям или не-констатированиям внешне-телесных феноменов... Вот почему такой "любознательный" подход к религии создает атмосферу некомпетентного протокола, призрачной авторитетности и бесплодно-мертвенных рассуждений; или же, – что еще хуже, атмосферу экспериментального фокусничества и истерического лжесвидетельства.
3.
Человеку, во все времена и у всех народов, присуще чувство своей слабости и беспомощности перед лицом огромного и малопонятного мира. Это чувство иногда брезжит в душе, полуосознанное, в виде смутной тревоги; но иногда охватывает всю душу и вызывает растерянность и подавленность. Тогда слабый начинает искать той силы, которая могла бы оградить и успокоить его; беспомощный начинает мечтать о помощи; острое чувство личного одиночества требует преодоления. Стихии мира грозят человеку и он, подобно древнему Одиссею, мужу великой силы, храбрости и хитрости, льет слезы ужаса, тоски и отчаяния (δάκρυα λείβων).
Так, к чудесному и таинственному – человека ведет инстинктивный страх. Одни ищут здесь избавления от страха. В других самые проявления необычайного, таинственного и чудесного вызывают впервые чувства страха и преклонения. Третьи прямо ищут этого страха, трепеща и наслаждаясь, погружаясь в мир "ужасного" и "фантастического".
Но страх ведет человека не только к религии; он ведет его и к колдовству, и к гаданию, к магии и сатанизму. В древние времена человек совершенно не умел различать эти, духовно и качественно столь различные и даже противоположные, сферы. Гадание прямо входило в состав религиозного культа; молитвы имели магическое значение и требовали и магических обрядов; в первобытных религиях священник, колдун и маг – представляются в едином лице; многобожие знало злых, уродливых, свирепых и дьяволоподобных богов и поклонялось им ради страхования от них. Правда, христианство, проповедуя единого Бога и благочестие, пыталось (и доныне пытается) отнести всякое внерелигиозное обхождение с чудесным и таинственным (кончая спиритизмом) к запретному нечестию. Но это не удается ему и ныне. И доныне сохранились рождественские гадания, целительные нашепты и страхующие заговоры.
Вообще говоря, тому, кто ищет "чудесного" и таинственного – из страха или ради страха, будет очень трудно различить, через какую именно дверь он вступает в эту сферу. Боящийся будет искать "спасения" и успокоения на всех путях и ни одна дверь не будет для него слишком плоха: он прибегнет и к колдующему шаману, и к гадающему жрецу, и к пророчествующему сатанисту; он поверит и фокусам мага, и бреду безумца, и "бобам" гадалки, и картам цыганки, и повесит в своем автомобиле доброжелательного чертика. Страх ведет не столько к религии, сколько к ее суррогатам. И чем он сильнее и глубже, тем легче и скорее он отдает человека в руки властолюбивого обманщика.
4.
Не менее сбивчиво и другое побуждение, возникающее из чувства слабости и беспомощности: я имею в виду желание помощи, исцеления от болезни и страдания, и еще более желание личного жизненного успеха ("славы" и власти, успеха в любви, в обогащении, на службе, в бою, в делах честолюбия). Людям естественно добиваться всего этого и искать всяческих "гарантий" и "заручек". Однако и здесь происходит то же самое, что при страхе. Кто ищет "чудесного" из побуждений житейской пользы и выгоды, тот продешевит и извратит религиозный смысл чуда, смешает религию с магией, колдовством и всяческим суеверием, и сам не заметит, как предастся не благочестию, а сущему нечестию. И тот, кто ищет "таинственного" по соображениям личного успеха, превратит свой религиозный опыт в подсобную лабораторию эгоизма и карьеризма; а в случае неудачи, он не затруднится искать содействия и у сатаны. Именно по этому пути шли в легендах, сказках и поэмах все те, кто предавался дьяволу: Фауст, Петер Шлемиль, Громобой и другие подобные им герои. Такие люди согласились бы и на выгодную сделку с Небом; но если она не удается, они пытаются заключить ее с качественно-низшими силами (магия, колдовство) или просто с адом. А между тем в настоящей религии чудесное и таинственное не воспринимается как дело пользы, успеха или выгоды; оно меряется совсем иными мерилами и ищется из совсем иных побуждений.
Особым видом такого заблуждения является стремление к чудесному и таинственному из жажды власти. Властолюбие одна из самых элементарных и безудержных человеческих страстей, побуждающих человека забыть все благие и совестные побуждения и пренебречь всеми заветами и запретами. Чудо импонирует людям, пленяет их фантазию, вызывает их преклонение; отчего же не подделать его, если оно само не дается или не удается? Отчего же не воспользоваться им, как целесообразным средством? Тайна влечет людей; она как бы завораживает, почти гипнотизирует их; отчего же не воззвать в них к чувству таинственного и не закрепить их покорность – тайной? А если никакой подходящей тайны нет, то достаточно бывает сказать им, будто она "есть", будто "посвящение" сразу невозможно, а требует подготовки, постепенности, и главное – покорности? И в наши дни, как и в древние времена, люди как дети отзываются на эти манящие обманы, покорно и терпеливо "становятся в очередь", чтобы умереть, ничего не узнав, или (в лучшем случае) чтобы узнать великий секрет своей обманутости: ибо на высшей ступени посвящения им сообщат, что тайна нужна одним глупцам, а что мудрец мудр и без тайны.
Властолюбие всегда вело к злоупотреблению чудом и тайной. К религии, в истинном смысле этого слова, оно не приводило; но в деле расширения и упрочения той или иной "церковной" или поддельно-церковной организации оно оказывалось целесообразным. Качество истинной религиозности снижалось, вырождалось или утрачивалось; но властолюбивые добивались покорности и бывали довольны; а остальное – им не важно.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, отнести религию в сферу "чудесного" и "таинственного" значит высказать нечто неопределенное и двусмысленное, и в то же время – умолчать о самом существенном и глубоком. Ибо эта сфера обширнее религиозной, и человек, ищущий "чудесного" и культивирующий "таинственное", может не иметь никакого отношения к Богу и к религии: он будет вращаться в области "загадок природы", или в области спиритизма, колдовства, магии, "сверхсознания", больной "мистики", антропософии, "черных месс" и т.д., но не обратится к Богу. Это не означает, что религия не знает Чуда и не хранит Тайну; но религиозное отношение к Чуду и религиозное созерцание Тайны отличаются по самому существу своему от суеверного, колдовского, магического и всякого иного, не религиозного восприятия этой "потусторонней" сферы жизни и мира.
Психологически естественно и понятно, что человек жаждет чудесного и преклоняется перед чудом. Но тот, кто действительно ищет путей к Богу и желает, приобрести и выносить в душе настоящий религиозный опыт, должен, прежде всего, не придавать "чуду" особого значения и преодолеть в себе беспокойное искание "чудес". Он должен приучить себя к мысли, что "религиозное" и "чудесное" не одно и то же; что путь, ведущий через "чудеса", есть самый легкий, самый общедоступный и самый недостоверный путь (ибо бывают ложные чудеса!); что этот путь может привести отнюдь не к религиозному опыту, а может и совсем увести от Бога; и что сущность чуда постигается верно не на первых ступенях религиозного восхождения, а лишь на более высоких.
Сама религия отнюдь не сводится к культивированию "таинственного вообще"; она есть духовный подход к тайне Духа и потому человек, живущий вне духовного измерения и не имеющий никакого отношения к духовному Предмету, – остается вне религии, несмотря на все его разглагольствования о религии, на всяческое внешнее благочестие и на исполнение церковных обрядов. Религия превратится у него в магию, молитва – в суеверное заклинание, священная история – в собрание сказок, обряд в алчное домогательство.
Где нет духовности и Духа, там нет ни Тайны, ни религии. Как только появляется духовное измерение, так прекращается всякое несерьезное секретничанье, всякая фривольная игра в таинственность и появляется подлинное благоговение.
По этому благоговению мы всегда отличаем настоящего ученого, глубокомысленного философа, истинного художника, даровитого врача-диагноста, призванного воспитателя, вдохновенного политика, крупного юриста и религиозного человека. Все они знают, что имеют дело (каждый в своей области) с сущей предметной тайной; всем им свойственно серьезное и искреннее тайночувствие. Без этого тайночувствия вырождается вся культура человека: и наука, и философия, и богословие, и искусство, и медицина, и воспитание, и юриспруденция, и политика. Без этого созерцания духовный тайны вырождается самая религия и утрачивает свой смысл церковь.
Человек определяется тем, признает ли он вообще таинственное в мире и в жизни, какими сторонами души он обращается к нему и что именно он принимает за тайну. Опыт таинственного и тайны далеко еще не составляет религиозности; но он есть как бы ее преддверие, или "паперть" религии. "Изгнать" из жизни тайну – значит религиозно умертвить жизнь; лишить тайну ее сокровенной религиозной таинственности продешевить ее, снизить, "растратить" на мелочи и пустяки, злоупотребить ею в целях корысти или властолюбия – значит опошлить жизнь, подорвать культуру, утратить ее священный смысл. В этом состоит духовная опасность "фокусов", гипнотически-легкомысленных забав, безответственной магии, спиритизма и т. п. Люди растрачивают по пустякам свое драгоценное тайночувствие; они привыкают "играть в тайну" и утрачивают ее духовную глубину. И когда они попытаются приступить к религиозному созерцанию религиозной Тайны, то окажется, что у них для нее ничего не осталось; что они до тех пор играли в тайну, пока не разуверились в ней; что забавы истощили запасы духовности и что настоящая Предметная Тайна не вызывает в них ничего, кроме скуки и протеста. Люди сами не заметили, как они проиграли и проснобировали великое духовное начало Божией Тайны.
Религиозная тайна есть тайна Бога, скрытая в Боге. Это есть объективно сущая сокровенная глубина, недоступная нам, но внушающая нам надежду на возможное приближение и раскрытие. То, что исходит для этого приближения от Бога есть откровение божественное; если бы его не было, то не было бы ни надежды, ни ее осуществления, ни религии. То, что исходит в этом приближении от человека, – есть человеческий религиозный опыт; это – неустанные усилия человеческого духа сделать все для того, чтобы стать способным и достойным воспринять откровение; там, где нет воли к этому, где нет этих усилий, человек остается в первобытной естественности, глухослепой для сверхъестественной тайны Божией. Религия есть не только дело нисходящего Бога, но и дело восходящего человека ("Синэргия"!); ибо человек должен свободно восхотеть Божественного, свободно радеть о своем подъеме и приближении, о своей духовности, об устроении своего духа, о его способности и достоинстве. Религия есть дело не только Божественной благости, но и человеческого доброволия, т.е. человеческой духовности и при том свободной духовности.
Религия есть "учение", она есть учение не скрывающее, а открывающее: благоговейное учение о Тайне и о путях к ней; но она не есть таинственное укрывание истины от "людей низшего ранга". Замечательно, что в этом отношении история религий знает две традиции: одну тайно-скрывающую, другую – тайнооткрывающую. Первая "апокалиптическая" традиция, имеет происхождение до-христианское и в пределах Христианства ей платит дань (из канонических книг) только Апокалипсис. Зато в Ведах (Индия) этот уклон преобладает: гимны Ригведы не дают ни видения, ни света; мало того, они, по словам Огюста Барта, "стараются стать непонятными и задушить в себе свои концепции"; они "стремятся к неопределенности и таинственности". Это наследственное тяготение восприняла от них и вся позднейшая мысль Индии, которая "тем более окружает себя таинственностью, чем менее имеет, что скрывать, употребляет символы, которые в сущности ничего не значат, и забавляется загадками, которых не стоит отгадывать". Своеобразное культивирование тайны мы находим ив практике элевсинских мистерий в Греции, где всякая нескромность или тем более разоблачение приводили афинян в священный гнев и влекли за собой грозные кары.
Напротив, в Христианстве, как отмечает Фюстель де Куланж, "культ не держался уже в секрете; обряды, молитвы, догматы ни от кого уже не скрывались"; они "охотно всем предлагались", даже самым чуждым умам и равнодушным людям. Самые утонченные вопросы о "единосущии" и "подобосущии" Отца и Сына "ομοούσιοσ" и "ομοιούσιοσ" дискутировались в Византии простым народом в мастерских и на улицах; и уже у Григория Богослова это вызывало благочестивую тревогу о возможной и даже неизбежной вульгаризации догматов и о греховности этого совлечения Тайны. Однако по существу Тайна Божества хранится не людьми, а Богом, она и открывается Богом и при том каждому из нас по его силам и достоинству.
А эти силы и это достоинство каждого из нас определяются прежде всего и более всего духовностью его религиозного опыта.
ПОЧЕМУ БОГ ДОПУСКАЕТ ВОЙНЫ?
Потому что человек, получив от Бога свободную волю и право выбора, избрал путь сотрудничества с сатаной и отвернулся от Бога "люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы" (Иоан.3:19) Бог не хочет, чтобы люди страдали и воевали, но дав им, по Своей милости и любви, право выбора Он это право не забирает от человека, ожидая его покаяния и возвращения к Богу. Человек неизбежно совершая грех получает за него воздаяние, но покаявшись и попросив в молитве у Бога прощения грехов, человек проявляю к этому свою волю, получает от Бога прощение греха. Ибо то что не возможно человеку, возможно Богу. После изменения человеческой природы человека с Адама и Евы человечество заражено грехами. Люди не сознают, что враждуя друг с другом, они тем самым враждуют с Богом, давшим повеление: "Будьте в мире между собою". Вражда против Бога приводит людей к взаимной вражде и войнам. "Нет мира нечестивым, говорит Бог мой" (Исайя 57). "С ближними своими говорят о мире, а в сердце у них зло" (Пс. 27). "Пути мира они не знают" (Исайя 59). "Будут искать мира и не найдут " (Иез. 7). Эта вражда началась еще в семье Адама и Евы: Каин оказался убийцей, Авель — мучеником. Мы готовы воевать из-за пустяков в наших семьях, и т.д.. Но кто хочет враждовать и воевать? Каждый готов вести переговоры о мире и подписать "нерушимый мир", но только на тех условиях, которые он лично предлагает... Волчья делегация явилась к овечьему стаду со словами: "Мы, волки, давно уже пытаемся наладить с вами дружбу, да виновники всему — ваши овчарки. Как только мы начинаем приближаться к вам, они поднимают такой лай, что нам ничего не остается делать, как спасать свои волчьи шкуры. Уберите сторожевых псов, и мы готовы подписать с вами любой договор о "нерушимом мире".
Часто люди ищут примирения даже с Богом, но только на их, человеческих условиях. В душе человека есть тяга к миру и жажда внутреннего душевного покоя, но это невозможно без Христа, Который вселяется духом своим в сердца кающихся грешников и дает мир людям. "Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас", — говорит Христос, а человек отказывается придти, пытаясь обрести мир "другим способом". Но, к сожалению, все человеческие попытки и усилия обрести мир без Христа ни к чему не привели.
Один из историков подсчитал, что за последние 4000 лет своей истории человечество имело только 268 лет мирной жизни, а в остальное время постоянно шли войны, если не в одном, так в другом регионе земного шара. Историк мог ошибиться в своих математических выкладках, но едва ли ошибемся мы, если скажем, что с тех пор, как сатана "был свержен с горы Божией", а человек был "изгнан из рая" в мире царят грехи и страсти, приводящие к страданиям людей.
Воплощение Христа или Боговоплощение, изменило русло человеческой истории. Во Христе Бог сделал абсолютно все для спасения рода человеческого, во Христе Бог открыл нам Свое Отцовское любящее сердце и показал нам нашу полную духовную несостоятельность и грозящую гибель вечную. "Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Через наше покаяние Он возродил нас к жизни вечной." (Иоан.3:16) Но "кто поверил слышанному от нас?"... По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их" (Римлянам 10). Евангелие Христово, как единственный путь к спасению, в большинстве своем, не принято человечеством. Отвергнув Христа, человечество оказалось в тупике.
Библия не содержит в себе ни одного Божьего обетования, в котором бы говорилось, что Бог не допустит войны. Напротив, Бог говорит о неизбежных войнах, землетрясениях и скорбях, "грядущих на всю вселенную". Говоря о последнем этапе человеческой истории, Христос предупреждает всех верующих: "Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец" (Мф. 24).
Настанет время, когда войн не будет, но оно наступит только в царствование Христа, когда народы и племена "перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать" (Исайя 2).
Пока человек не обратится ко Христу, он будет любить грех, искать его, наслаждаться им, оправдывать и покрывать его. До тех пор, пока человек не увидит своей греховности и не обратится к Богу, принеся свое покаяние, он будет враждовать, убивать и воевать. Ибо так говорит Господь: "омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей Моих, перестаньте делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Тогда придете и рассудим, говорит Господь, если будут грехи ваши, как багряное — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч (война) пожрет вас: ибо уста Господни говорят" (Исайя 1).
Смерть страдания и войны неизбежны, но не смерть страшна, а смерть без Бога, т.к. за смертью следует воскрешение. "Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить" (Матфей 10)
Вы здесь » Христос Воскресе! » Основы православия » Вера.